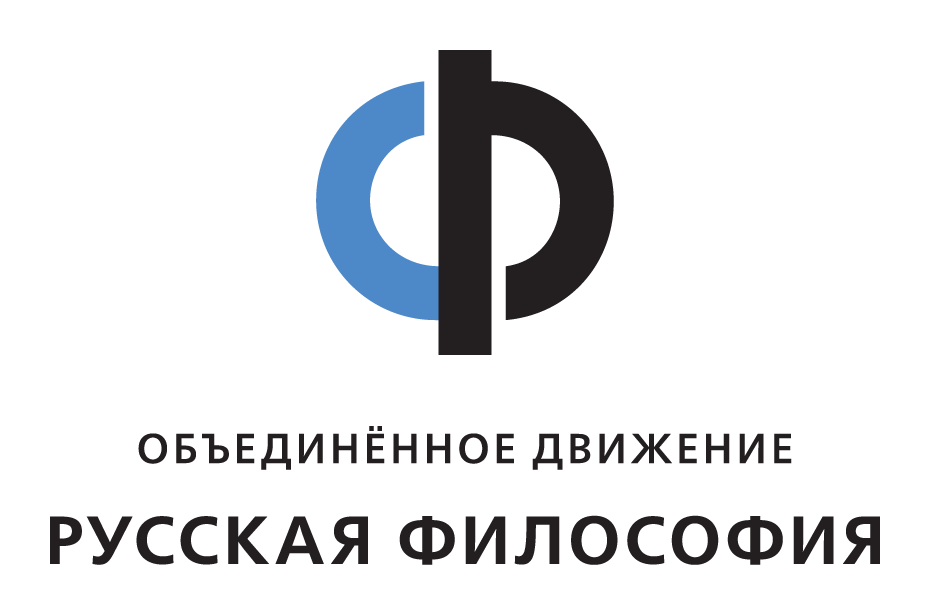Тема моего выступления – "Русская идея как нравственное оправдание и спасение человека". Я хотел бы в качестве эпиграфа к этой теме привести достаточно известные слова русского гения Георгия Свиридова, очень известные слова, но мне кажется, что они должным образом еще не осмыслены. Звучат они так: "Русская культура неотделима от чувства совести. Совесть – вот что Россия принесла в мировое сознание". Здесь речь идет как раз о нравственности. Эти слова сказаны не каким-то заштатным ура-патриотом – нет, речь идет о русском гении мирового уровня, у которого, конечно же, нет "национальной гордыни" или "национального эгоизма", такого националистического самопровозглашения – есть понимание своей уникальности, вот что самое важное. Потому что есть два типа патриотизма – патриотизм, который себя возвышает, так или иначе это европейский шовинизм и национализм, который, собственно, в фашизм трансформируется. И есть истинный патриотизм, который совершенно не противопоставляет свой народ другим, но пытается раскрыть свою уникальную ипостась в Божественной мировой семье человечества. Очень важно сказать об этом вначале, вот это и есть истинный патриотизм.
Слова Свиридова – это слова, которые перекликаются с сутью русской культуры. Если мы будем каким-то образом выходить на формулировку русской идеи, то нравственное основание русской идеи, с моей точки зрения, должно быть первичным.
Да, конечно, есть классическое историософское понимание русской идеи. Историософия – это, если в буквальном смысле, поиск смысла в истории. Есть существенное отличие от академической дисциплины "философия истории", которая распространена в западной традиции. На Западе преимущественно научная философия истории, хотя, безусловно, есть исключения. Например, работы Ницше, Шпенглера, Ясперса, Джамбаттиста Вико пытаются выйти за пределы исторических законов и найти высшие духовные измерения в истории, понять, что есть дух, который не подчиняется никакой природно-социальной детерминации и действует в истории.
Такие попытки на Западе есть, но в западной традиции, можно сказать, это редкие счастливые исключения, в то время как в России – это фундаментальное философское течение, идущее от самых истоков. В контексте этой традиции историософия – это метафизика мирового духа, которая глубоко и оригинально проявляется в национальной истории культуры. Но не всякая национальная философия способна расслышать и понять свое национальное задание. Здесь задачи поиска своего предназначения, русской идеи и своего национального образа философии совпадают.
Неслучайно, наверное, вопрос о русской философии тоже один из болезненных, острых. Этот вопрос стоит всегда на повестке дня. Отталкиваясь от классической идеи, можно сказать, что русская идея – это идея вселенская. О вселенской сущности было сказано очень много продуктивного, глубокого, важного, нужного и полезного, и все из этого сейчас актуально. Например, Вячеслав Иванов, классическая работа "О русской идее", которая вышла в 1909 году. В такой же тональности говорили и другие русские философы: Бердяев, Трубецкой, Карсавин. Раньше об этом говорили Достоевский и Соловьев, Чаадаев, Одоевский, славянофилы в поэзии Тютчева – это целый огромный пласт русской философской культуры XIX века. Но самое начало начал – это "Слово о законе и благодати" митрополита Иллариона.
И опять возвращаемся к Западу – мы же его не отменяем и не отрицаем, нам важны результаты нашей рецепции Запада, продуктивные, и рецепции Западом нашей культуры. И нужно сказать, что это тоже такие "редкие, но меткие" счастливые исключения, когда западные авторы тоже были озарены метафизическим светом русской идеи. Тут можно назвать Шеллинга, под влиянием которого прежде всего развивается русская национальная философия. Это, конечно же, снова Ницше, Шпенглер и т. д. Все они были поражены непостижимостью России в ее глубоко трагическом и апофатическом духе, невозможностью использовать рациональные критерии для ее формулировки.
Вот в этом смысле такая русская идея в классическом измерении – это историософия, в таком качестве русская идея есть антипод либеральной идее случайности бытия, в которой нет понимания помыслительного хода жизни и истории, в которой все сводится к одномерным законам эволюции, спроецированным на реальность.
Случайность, она же закономерность и необходимость, – две грани одного и того же приземленного взгляда на мир, в котором царствуют законы социал-дарвинизма в том или ином виде, и такая картина мира исключает прежде всего таинственность, непостижимость, трагичность исторической судьбы человечества и человека в нем. А значит, не предполагает нравственной ответственности за судьбу бытия. Либеральная идея случайности в естественнонаучной области руководствуется принципом природного детерминизма. В социальной плоскости происходит очевидное вытеснение морали правом, превращающееся в дальнейшем уже в правила, в этической – засильем таких форм, как гедонизм, цинизм, иронично-игровое отношение к нравственно-духовным ценностям. Установка здесь простая – "жизнь конечна, бессмысленна, нелепа, и прожить ее нужно как можно успешнее и комфортнее в условиях повышенного риска". Поэтому так важна безопасность внешняя и внутренняя. Большие идеи – метанарративы – смертельная угроза для такого гедонистического существования, а само существование так или иначе становится экономическим, а человек – homo economicus, для которого не существует таких вещей, как нравственные абсолюты или метафизические истины. И в целом данный тип культуры, и уже цивилизации, поскольку цивилизация деградирует, можно назвать эвтаназийным, где идея безболезненного существования пронизывает всю область человеческой жизни от начала до конца. Это уже не классическая медицинская эвтаназия, как безболезненный уход из жизни, но стремление создать максимальное тотальное безболезненное пространство, из которого вместе со страданием, потому что страдания изгоняются, уходят совесть и смысл. Тем самым атрофируются метафизические, то есть философские, высшие проявления человека. Россия в этом смысле особенно сильна и богата своей философской мыслью. В этом ее сущностное своеобразие. Важный вопрос, что первично здесь: историософская направленность определяет специфику и самобытность русской мысли, или же эта специфика предполагает глубокую историософичность? В любом случае они оказываются взаимосвязаны. От "Слова о законе и благодати" до размышлений Александра Сергеевича Панарина – это непрерывное глубокое и мучительное размышление России о судьбе ее духовной миссии в контексте исторических судеб. Поэтому здесь нельзя просто-напросто говорить о функциональном изоляционизме, о нарциссизме России, как часто говорят недруги, упрекая ее. Ровно наоборот – всечеловечность, о которой говорил Достоевский, составляет сущность такой национальной и наднациональной русской идеи, которая всегда выше всех европейских и прочих национализмов, которые не могут дозреть до всечеловечности.
В "Слове о законе и благодати" дано первое философско-богословское осмысление крещения Руси и самой фигуры князя Владимира. Обращение в истинную веру трактуется как чудо, действие благодати. Можно сразу ХХ век – Лев Гумилев, который тоже, осмысляя факт крещения Руси, говорит о благодати, что этот выбор веры был правильным выбором, был актом спасения. Это действительно чудо – ведь можно было выбрать что угодно. А через крещение Россия вписывается как равноправный народ к остальным народам. Но предназначение – это особо важная вещь, на которую я хочу обратить внимание, это не столько данность, сколько заданность, поэтому поиск своего исторического предназначения – существенная черта отечественной философии. Отказ от такого поиска, низведение истории в материальную плоскость, где действуют лишь законы хищничества, борьбы за выживание, неравенства, капиталистическая форма жизни. И все это возводится в объективные законы истории – вот почему Западу всегда непонятна Россия, вот почему он испытывает недоверие и страх перед ней. В исторической перспективе максимум такой духовной и историософской концентрации достигается в концепции "Москва – третий Рим". Здесь важна идея приоритета духовных и нравственных ценностей над материальными – в конечном счете это простая вещь, напоминание миру о том, что в самом мире действительно есть духовность, это не просто какая-то абстракция – это реальное бытийное онтологическое начало. Проекции на философию тут выражаются в такой черте, как поиск смысла жизни. Только духовное и живое существо – человек – способно на эту метафизическую работу, которая заключается в вопрошании о смысле жизни, истории, самого бытия. Россия в этом смысле всегда искала альтернативный, основанный на духовных, а не биологических принципах путь. Вот вся наша классическая русская религиозная философская мысль – например, у Евгения Трубецкого показано, что именно духовный строй жизни, явленный в древнерусской иконописи, представляет собой существенное отличие от строя, в котором господствуют эгоистические, основанные на взаимной вражде принципы. Россия никогда не перенимает этот перенос животного мира на социальный, в то время как Запад узаконивает социальное хищничество, используя при этом правовые моменты в качестве ограничений. Мораль оказывается личным маргинальным делом. В России же первичной и основополагающей является мораль, нравственное измерение человека. Это не исключительно русская ценность и не какое-то национальное бахвальство. Это всечеловеческая ценность, которая человечеством забывается, а Россия напоминает об этом, но это и ее же собственная задача для нравственного самосовершенствования.
Кроме всечеловеческого измерения еще одна особенность русской историософии – это то, что она всегда на грани, на пределе. Можно сказать, сущностно эсхатологична. Всегда перед бездной, пограничные ситуации, предчувствие и участие во вселенских катастрофах. Максимальная устремленность к пределу. Сам мир всегда на краю гибели, на краю смерти, только в этом положении совершается подлинное бытие. Эсхатологичность разоблачает ложь стабильного бытия в нестабильном мире. Потревоженный дух, как выразился Василий Розанов, бьется в сердце русской историософии, заставляет искать истину и добро, нетленные ценности в тленном мире. Поэтому здесь так важна не очень широко известная, но крайне необходимая аритмологическая концепция бытия, которую разработал русский ученый-математик и философ, Николай Бугаев, отец Андрея Белого. Согласно этой идее историческое бытие человечества не подчиняется принципам непрерывной эволюции, а представляет собой разорванную, пробитую бытийными трещинами трагическую историю. Никакой причинно-следственной связи между событиями нет. Поэтому бытие сущностно непостижимо, но именно таким образом возможно хоть как-то приблизиться к пониманию, почему есть зло, смерть, катастрофы, а не убегать от этого в либеральную хлипкую идеологию "нет войне". Многие русские философы и писатели в этой аритмологической концепции находились: Булгаков, Флоренский, даже Пушкин. Мысль Достоевского здесь определяющая – бытие только тогда есть, когда ему грозит небытие. Иначе мир будет казаться плоским, одномерным.
Центральный мой тезис – идея нравственного оправдания бытия. Мир лежит во зле, но мир не есть зло, здесь нет гностического пренебрежения или манихейского отрицания, но понимание того, что бытие больно, оно пронизано энергией зла, но нужно здесь отделять зерна от плевел. В этом смысле ядро русской идеи – это нравственная антроподицея. Смысл истории, бытия человека в истории сводится к нравственному оправданию мира и человека в мире. Если опять-таки сравнить западную и русскую традиции, в западной традиции это теодицея, оправдание бога, чем занимались схоластики, бытие бога, примирение зла и т. д., то в русской традиции – это оправдание и спасение человека. Историософия здесь становится сотериологией, то есть учением о спасении, необязательно в рамках церковного учения, но и в рамках светского учения. Не наказать человека, а простить его – вот сущность русского этического подхода к виновности человека.
На Западе подход принципиально иной. Здесь человек, начиная от известного изречения Анаксимандра до Гегеля, виновен изначально и по определению, и его вина детерминирована каким-то безличным холодом и порядком вещей. "Откуда вещи берут свое происхождение, туда они должны сойти по необходимости; ибо они должны платить пени и быть осуждены за свою несправедливость сообразно порядку времени" – это высказывание Анаксимандра в переводе Ницше. Можно сказать, что это краеугольное этико-метафизическое основание всей западной цивилизации, которая по Хайдеггеру вошла в "забвение бытия". Является оправданием этой традиции и изначальной вины человека. Поэтому мы видим в западной цивилизации перекос права над моралью, преобладание юридизма, у человека нет изначальной презумпции невиновности, он виновен по факту своего бытия.
В России все иначе – здесь право в большей степени нравственная, а не юридическая категория. Право – это правда и справедливость. На Западе если и занимались оправданием, то делали это по отношению к Богу, а в России оправдывают человека в глазах Бога, но по большей части в глазах других людей. Соборная совесть других глаз, которые смотрят на тебя, поэтому свет совести – самая важная категория. Здесь возникает вопрос, как можно и можно ли вообще оправдать человека – и это исконно русский вопрос, как и вопрос о смысле жизни, о чем говорил Арсений Владимирович Гулыга, известный знаток русской и немецкой философии. Несмотря на то, что есть Байрон, есть Гете, есть Данте, впервые вопрос о смысле жизни, в таком виде, в котором мы его знаем, в своей предельной обнаженности, был поставлен русскими. У Гоголя, у Достоевского этот вопрос достигает максимальной глубины. Никто так глубоко не заглянул в бездну, как Россия, но сделано это было, чтобы увидеть там лучезарный спасительный свет. И снова я повторю эти великие слова Георгия Свиридова: "Русская культура неотделима от чувства совести. Совесть – вот что Россия принесла в мировое сознание". В свете совести все видится иначе, чем в свете разума, и это противостояние, уже ставшее школьным, русской и западной культур, рацио и логоса. В свете совести как никогда раскрываются все ужасы существования человека, вот она – проблема маленького человека. Не только социально, но и этико-метафизически. Одним из первых Гоголь во всем этом мраке зла пытается разглядеть добрую сущность, он стремится оправдать, понять красоту, отделить ее от инфернальной красивости. Это стоило ему жизни, можно сказать, он надорвался из-за этой титанической задачи. Не зря Василий Васильевич Зеньковский столько внимания уделяет именно фигуре Гоголя, считая его одной из центральных фигур в русской философии и европейской философской эстетике нового уровня, который заново поставил этот вопрос и трагически пережил эту задачу. Конечно же, дальше идет Достоевский, который в самых низких поступках человека отказывается видеть последнюю сущность человека. Это не значит, что снимается вина и не будет наказания, конечно же, человек претерпевает ответственность за свои поступки, но в этом нет окончательного приговора человеку, то есть любого самого падшего человека можно спасти, есть то, за что его можно оправдать – вот что делает гениальный Достоевский. Чем глубже он погружается сам и ведет своих читателей в темное дно человека, тем больше он явит света, пытаясь показать этот свет другим. Нет однозначно положительных или отрицательных персонажей, и высоты ангельские, и глубины сатанинские – вот сущность человека. Как бы низко ни пал человек, всегда есть возможность подняться и преобразиться, но лишь через страдания. Поэтому, когда современная западная гедонистическая культура исключает страдания как какой-то комплекс неполноценности, она исключает возможность спасения и оправдания человека, исключает нравственное достоинство человека. У Платонова был, можно сказать, дар чувствовать жутчайший абсурд и бессмысленность, восприятие смертного бытия. Постмодернисты любят записывать Платонова в свои ряды, но они лишь иронизируют, реально они отрицают возможность спасения и жертвенную способность человека восходить к небу. Платонов как раз вопреки этой бессмысленности, во многом создаваемой неумолимым действием смерти, стремился выйти из нее и найти абсолютный всеобщий нравственный смысл всеобщего существования. Как раз на войне, самой страшной, Великой Отечественной, он его и находит. Трагическим парадоксальным образом именно война дает этот высший смысл и ему, и всему народу. Этот смысл – в спасении от мирового зла, воплотившегося в фашизме. Собственно, вот эта миссия сейчас и продолжается, снова Россия освобождает мир от мирового зла, от нового вида фашизма, который, конечно, связан с классическим европейским фашизмом, но сегодня его личина очень сильно изменилась. В этом нравственная миссия человека – спасение и очищение всего мира от зла, вот такова ее заданность. Все эти парадигмы нравственного оправдания человека, которые в большей степени реализованы в русской философической литературе. Оправдание жизни маленького человека, ничтожной и безобразной, но все равно оправдание. Умение видеть хотя бы крупицу добра в любом зле, говорю без национальной гордыни, но это великий дар русских, дар, который нельзя растратить. Это спасение для мира, в этом самая глубокая идея русской философии, это то, где этика и метафизика сходятся – в русской идее нравственного оправдания человеческого бытия. Только оправдав бытие человека, мы можем выходить на более высокие, историософские вершины, только если мы умеем прощать и любить, если в каждом человеке мы видим образ божий, а не плесень на краю Вселенной. Этот дар нужно сохранить, современный мир пытается у нас его похитить. Почему Россия сейчас представляет опасность? Потому что она хранит этот свет, опять-таки – без всякой национальной гордыни. Вся наша традиция, традиция русской идеи –эмпирическое доказательство этого.